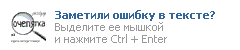Николай Леонтьевич Вегера (1912—2005) — конструктор и учёный в области дизелестроения, профессор.
Родился в 1912 г. в Киеве. Окончил там же автодорожный техникум (1932), до 1934 г. работал в НИИ авиадвигателей тяжелого топлива Гражданского воздушного флота в должности старшего технического конструктора.
В 1938 году окончил вечернее отделение факультета «Авиадвигатели» Киевского авиационного института, совмещая учёбу с работой на Моторном заводе № 225. В мае 1941 года в должности старшего инженера-конструктора переведён в конструкторский отдел строящегося авиазавода в Харькове. После начала войны вместе с заводом эвакуировался в Сталинград, а затем в Барнаул.
Участвовал в строительстве завода № 77 (впоследствии «Трансмаш»), предназначенного для производства танковых двигателей В2−34. Работал там же: начальник бюро в отделе главного конструктора (1942—1952), зам. главного конструктора (1952—1957), в 1957—1973 — главный конструктор завода.
С 1973 г. трудоустроен на кафедру ДВС Алтайского политехнического института.
Автор более 100 научных работ по конструкции и эксплуатации дизелей, имеет авторские свидетельства на изобретения.
Лауреат Сталинской премии 1949 года — за создание семейства дизельмоторов. Награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта», малой золотой медалью ВДНХ.
О нем вспоминает его ученик Владислав Свещинский: «Первую лекцию по двигателям внутреннего сгорания к нам пришел читать ужасно древний, как нам тогда казалось, старичок в пиджаке, сплошь увешанном медалями. Он говорил слабым затухающим голосом, вздыхал, делал неправильные ударения. Выступивший перед началом лекции заведующий нашей кафедрой представил старичка, наговорив о нем массу торжественных слов. Уже тогда для некоторых из нас фамилия лектора – Вегера – не была пустым звуком. Кое-кто уже имел отношение к заводу Трансмаш, конечно, очень поверхностное. Но в целом впечатление от старичка с медалями было угнетающее и разочаровывающее.
Вегера читал нам «Общую конструкцию двигателей», какие-то описательные курсы. Точнее даже, не читал, а рассказывал, говоря о двигателях, как о своих более или менее близких родственниках. Первое время мы были довольно-таки равнодушны к нему. Но постепенно отношение менялось.
Мы обнаружили, как легко произвести на вчерашних школьников впечатление, упоминая к месту и не к месту уравнения Навье-Стокса, эффекты Ребиндера и
Зеебека, как просто вырасти в наших глазах, рассуждая о том, когда следует применять охлаждаемый датчик давления и как влияет концентрация ПАУ на рост онкологических заболеваний. Это была яркая и легкая слава, как легка и блескуча бывает бижутерия. На фоне молодых продвинутых преподавателей и ассистентов кафедры Вегера смотрелся явно тускло. Он не «подавал» себя. Вместо этого, незаметно, но прочно в наше сознание вошло, что Николай Леонтьевич отвечает на любой заданный ему вопрос, касающийся двигателей. Он говорит в своей неповторимой, «непрофессорской», манере, слабым высоким голосом, иногда смешно ставит ударения, но отвечает исчерпывающе. Сначала это казалось странным. Потом стало привычным.
Наступала пора зачетов. Мы понесли на проверку первые курсовые проекты. Консультации преподавателей имеют расписания – от и до. Консультации Вегеры были построены по принципу «от»: он приходил, допустим, к пяти вечера и сидел до тех пор, пока были студенты. Конечно, мы этим бессовестно пользовались.
Отношение к чертежам в институтах своеобразное – важнее всего, чтобы было «чистенько». Вегера открыто смеялся над страстью институтских работников «прилизать» чертеж. «Ты тут не думал», – покрикивал он, тыча худой рукой в ватманский лист, – «зализал все, красиво все. Неправильно!!!». Он энергично проводил шариковой ручкой через весь вид: «Вот тут, тут и тут – ерунда». Студент страдал: «Николай Леонтьевич! Вы бы карандашом правили…» «Перечертишь! Конструктор должен работать!» Это сильно раздражало. Как и его убеждение, что чистый чертеж бывает только, если он «передут» с другого, на студенческом языке – «состеклен».
Вообще, он не был добреньким, сладким, не изображал из себя ни дедушку, общающегося с внуками, ни патриарха, ни профессора – работника «высшей школы». Через годы все видится немного иначе, и сейчас кажется, что ему было безразлично, как он выглядит в глазах окружающих. Он был, как был, и производить на кого-то впечатление не считал нужным совершенно.
Когда мы познакомились, Вегере было семьдесят семь. Когда получили дипломы – восемьдесят два. Он бодро пробегал по темноватым коридорам лабораторного корпуса, вел занятия и не давал повода окружающим вспоминать, сколько ему лет.
Он всегда был кипуч и экспрессивен и кого-то мне напоминал, но я никак не мог догадаться – кого именно. Типичный пример подобной экспрессии. Студенты, зная некоторые слабости Николая Леонтьевича, старательно отвлекают его от темы лекции или семинара. Разговор о войне. Причем не о работе в тылу, а – в этот раз – о фронте. Николай Леонтьевич падает со стула на пол и энергично машет руками, показывает, как правильно окапываться под обстрелом. Чей-то непочтительный вопрос – откуда вы знаете, вы же были в тылу? – вызывает бурю возмущения: я знаю! Шут? Нет, не шут. Человек, безраздельно живущий каждой минутой, отдающий всего себя жизни и берущий от нее все до последней капли. Страстная натура, кипящая и будоражащая всех.
Постоянный вкус к жизни. Жизнелюб, несмотря ни на что. И этот оптимизм тесно связан с самым живым интересом ко всему, что вокруг происходит. В 2000 году я защищал кандидатскую диссертацию. Вегере тогда было восемьдесят восемь. Из дюжины сотрудников кафедры, не входивших в состав ученого совета, на защиту пришло два человека. Один из них – Вегера. Он шел не только поддержать, хотя уже за это – поклон. Он шел потому, что ему было просто интересно. Он был самым старшим из всех работников кафедры, он был живой легендой уже много лет, но считал естественным явиться и слушать и смотреть. Для меня этот факт остается поразительным, для него это было обыденностью.
Человек разносторонний и разноплановый. Не замкнувшийся только на заводе, только на институте, только на двигателях. В интервью он говорил, что черпает свои силы в саду и общении с женой. Что здесь особенного, но кто из нас осмелится и додумается сказать это в микрофон. Для него это было естественным потому, что он так думал. А что думал, то и говорил.
Да, порой он бывал резок, но всегда был отходчив. Одна из заводских легенд гласит, что, возвращаясь из командировок, Николай Леонтьевич иногда узнавал, что конструкторский отдел опять лишают премии из-за каких-то происков ООТиЗа. Он бежал в заводоуправление, маленький и взъерошенный, похожий на сердитого воробья, и еще в коридоре, подбегая к двери ООТиЗ, кричал в адрес начальницы: «Где эта жопа на колесиках?!». Его боялись в том плане, что боялись упасть в его глазах, потерять доверие, стать ненужными ему. Иного страха он не внушал, ему было это не дано.
У него – очень непростая судьба, и в прошлом – сколько угодно возможностей упасть, погибнуть, раствориться в безвестности и пустоте, проиграть. Он выжил во время и после коллективизации и рассказывал нам, как валялись на Крещатике трупы умерших от голода, когда он учился в авиационном. Он уцелел перед войной, в войну и после войны и даже стал лауреатом Сталинской премии, хоть это и не давало гарантии свободы и жизни. Вместе с такими же, как он, Вегера поднял завод. Он ушел с завода, круто изменил жизнь, но, как кошка всегда падает на четыре лапы, снова уцелел, сумев найти себя в институте.
Он рассчитывал на долгую жизнь и говорил с улыбкой и верой в свои слова: «Мой папа дожил до восьмидесяти с лишним. А сейчас – Советская власть, жить стало лучше. Значит, я проживу еще дольше». Он тяжело заболел, операция дала осложнение на зрение, Николай Леонтьевич почти ослеп. Приходя в себя, он практически наощупь пытался писать очередную методичку для студентов. Возможно, она не содержала в себе научных истин, подобных теории относительности, возможно, даже она была не очень нужна студентам. Но она была нужна ему самому как доказательство того, что он не сдался болезни. Но были неутешительны анализы, была больна жена. Вегера счастлив в детях, они удались как люди и как специалисты. Они не оставили его, но он, как обычно, без торжественности и незаметно сделал свой выбор. Он ушел победителем, сильным и красивым человеком, не отяготив ближних и не развлекая своими страданиями дальних. Он ошибся только в одном – не дожил до ста лет. Но, с другой стороны, ведь и Советской власти уже не было на тот момент, так что не соврал главный конструктор – изменились условия эксперимента, изменились и его результаты».