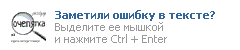Из воспоминаний Владислава Свещинского: «По прошествии многих лет, я понимаю, что мне везло всегда и во всем, кроме, пожалуй, учебы и устной речи.
Главное мое везение – встречи с прекрасными людьми, каждый из которых в разной степени наполнил жизнь смыслом и радостью. Первая из таких встреч – встреча с родителями. Говорю об этом, не боясь показаться сентиментальным или хвастливым. Что тут поделать, если действительно повезло?
Родители вели со мной разговоры о будущей профессии, рассказывая о своем давнем и общем знакомом. «Вот бы тебе таким, как Эрик, стать, – вздыхал отец, – светлая голова, грамотный, да еще и умный». «Языки знает, – добавляла мама и перечисляла: – английский, немецкий, по-моему, еще французский». Постепенно во мне разгоралось любопытство: что это за тип? Тип жил в соседнем дворе. Примерно ровесник родителей, густая седая шевелюра, очень характерное лицо, быстрая походка. «Эрик – конструктор от Бога, — тихо говорил папа, – таких много не бывает. Вот бы тебе у него поучиться». «Да, Трансмаш – это школа, – говорила мама, – ах, какие там замечательные люди работают. Но Эрик, конечно, звезда».
Родители умели заинтересовать: после школы я поступил в политехнический институт. Кем быть и где потом работать, было уже понятно. Как писал Георгий Адамович: «На земле была одна столица, все другие – просто города»: в городе работало много промышленных предприятий, но заводом в нашем кругу считали только «Трансмаш». Вообще, я хочу сказать, родителям был глубоко чужд и неприятен дух избранности, налетающий время от времени подобно гриппу на нормальных людей и целые нации. Считать себя лучше других казалось им неприличным. Но была у них, как и у многих людей, своя слабость: барнаульский завод «Трансмаш» котировался у них все же чуть выше прочих. Не последнюю роль в этом сыграл давний знакомый, инженер-конструктор Эрнест Иосифович Бургсдорф.
В порядочных учебных заведениях принято гордиться своими выпускниками. Отблеск известности и славы, заработанной выпускником, падает на кафедру, которую он заканчивал. Иногда приходится гордиться тем, что есть. Так на факультете имелась памятная доска с записью о том, что один из его выпускников стал комиссаром милиции. Иногда, как в случае с нашей кафедрой, были более весомые основания для законной гордости. Бургсдорфом гордились, что не мешало некоторой снисходительности в обращении.
Бургсдорф читал у нас курс системного анализа. С огорчением вынужден сказать, что лектор он был никакой. Когда-то я писал о другом нашем замечательном наставнике, тоже конструкторе «Трансмаша», главном конструкторе – Николае Леонтьевиче Вегере. Вегеру тоже нельзя назвать лектором. Это, скорее, был рассказчик. Есть симфонические оркестры и есть оркестры камерные. У каждого из них своя специфика. Вегера был симфоническим оркестром – несмотря на возраст и манеру подачи материала, он работал на большую аудиторию. Бургсдорфу требовался узкий круг. Можно сказать и так: Николай Леонтьевич мог управлять спортивной школой, Эрнест Иосифович – растить мастеров спорта. Этими, не очень удачными сравнениями я вовсе не хочу бросить тень на кого-то из моих Учителей. Их память для меня всегда светла.
Существуют известные имиджевые шаблоны. Они касаются одежды и поведения, даже внешний вид часто подгоняется под правила ролевой игры. Немногие люди имеют смелость сознательно нарушать шаблоны. Но еще меньше людей живут свободными от этих шаблонов. Как и Вегера, Бургсдорф никогда не ассоциировался с работником «высшей школы». В них обоих не было академической важности, они не изображали усиленную работу мысли и т.д. Помню, в один из семестров расписание было составлено так, что практические занятия по курсу Бургсдорфа приходились на субботу. Наша группа явилась, а он – нет. Мы прождали положенные пятнадцать или двадцать минут. И, что интересно, от любого другого преподавателя мы ушли бы с чистой совестью. А тут кто-то сбегал, позвонил ему домой, и еще через двадцать минут Эрнест Иосифович появился. «А я совсем забыл», – простодушно сказал он. Спустя годы, уже на заводе я не раз обращал внимание, на его способность не показывать человеку свою значимость – не только искусственную, но и реальную, не показывать, что знаешь и можешь больше, чем собеседник, что имеешь больше заслуг. Про то, что он – орденоносец я узнал через много лет и от других людей. Будь я на его месте, наверное, я носил бы орден на рабочем костюме.
Его часто привлекали к участию в работе аттестационных комиссий, он присутствовал на защитах дипломов. Несколько лет я сам бывал в составе ГАКа и знаю, какая это мука и скука: большая часть студенческих работ, к сожалению, скучна, а защиты – унылы. Речь многих студентов тяжела от слов-паразитов, их чертежи и пояснительные записки наивны и нередко переписаны. Исключения, конечно, есть, но как они редки! Я вспоминаю Бургсдорфа, и думаю: если мне с моим весьма скромным теоретическим и практическим багажом было тягостно, каково же бывало ему?! И при этом никто не может сказать, что видел презрительную гримасу на его лице или слышал насмешки в адрес студентов. Не было такого. Терпимость, интеллигентность, скромность – качества такие банальные и такие редкие во все времена.
Одной из крупных ошибок, которые я совершил, придя после защиты диплома к тогдашнему главному конструктору «Трансмаша» на собеседование, было то, что я не попросился сразу под начало Бургсдорфа. Сейчас уже поздно сожалеть и рассуждать о причинах. Позднее я сделал попытку средней руки, но в силу природной мягкотелости дело до конца не довел. В молодости нам кажется, что времени впереди – вагон. Времени всегда мало. Его всегда гораздо меньше, чем денег, сил, главное – желаний и надежд. Тогда я не знал, что у меня в запасе только пять с половиной лет общения с Эрнестом Иосифовичем. И даже эти годы прошли для меня с гораздо меньшим «КПД», чем могло бы быть, окажись я прозорливее.
В то время на Трансмаше уже начиналась полоса реформ и пертурбаций. Бюро рабочего процесса, которым руководил Эрнест Иосифович, расформировали. Он стал начальником группы рабочего процесса, но группы фактически не существовало. По штатному расписанию его отнесли к бюро поршней и кривошипно-шатунного механизма. Но он состоял там, в основном, формально.
У него не было визитных карточек, не стояла на столе табличка с фамилией. Ему даже в голову это не приходило. Через несколько лет один из моих начальников поставил себе на стол такую табличку, да еще на английском языке. Бургсдорф не осудил бы его. Он бы его искренне не понял.
Бургсдорф был живой энциклопедией. Его поместили в маленькую узкую комнату, где две стены почти целиком занимали книги, стоял кульман, его рабочий стол. Сюда мог прийти каждый и задать вопрос, о чем угодно. Если Бургсдорф знал, он отвечал. Если сомневался, снимал с полки нужную книгу и вручал ее собеседнику. Это был фокус, волшебство. Удивляло даже не то, что он столько знал: к этому привыкали очень быстро. Поражало, что у него можно найти любую книгу. Мне так и казалось – любую. Сколько там было томов и томиков? Не так уж много, учитывая размеры комнаты. Он ведь не просто их хранил: он их читал. Когда он успевал это делать, я не знаю.
Он был двигателистом от Бога и от Бога конструктором. Два человека поразили в юности мое воображение скоростью и чистотой конструкторской работы: Эрнест Иосифович Бургсдорф и Владимир Михайлович Шептунов. Семен Нариньяни писал о незабываемом впечатлении, которое произвел на него Михаил Кольцов, диктуя фельетон машинистке. Кольцов не читал с рукописи, он сочинял и одновременно диктовал. Да простит меня Господь, но, не умея писать фельетоны, я почему-то уверен, что компоновать головку цилиндров быстроходного двигателя специального назначения труднее, чем «жечь глаголом». Бургсдорф и Шептунов чертили новое так, будто слышали голос, будто записывали то, что им диктовалось. Со стороны это выглядело так.
Написать биографию Бургсдорфа, с точки зрения его профессиональных взлетов и падений, сможет кто-нибудь другой. Я вспоминаю только фрагментарную мозаику наших разговоров и моментов его жизни.
Мы жили в соседних домах. До завода – двадцать минут на трамвае. Постепенно я узнал, что он ходит на работу и с работы пешком. Я тоже начал ходить пешком. Бургсдорф сказал, что рад, что это правильно. В один из первых походов утром, когда мы добрались до центрального проспекта, он остановился у перехода: «Давайте подождем». Я не стал задавать вопросы: к тому времени я уже был влюблен в него настолько, что, предложи он не то, что подождать, прогулять, сразу бы согласился. Минуты через три подошел еще один человек. Лицо знакомо – виделись на заводе. Бургсдорф представил меня: «Наш новый коллега». Это ужасно польстило. Так я познакомился с другим замечательным человеком, Владимиром Николаевичем Дроздовым. Много лет спустя тот стал прототипом героя рассказа «Меч, как щит».
Когда мы шли вдвоем, я много расспрашивал. Он очень вежливо, не равнодушно отвечал. Иногда он рассказывал что-то из прошлого. Жалею, что не записывал тогда – все казалось, успею. Когда мы шли втроем, разговаривали все вместе. Владимир Николаевич – натура страстная, склонная к поискам и утверждению справедливости, если надо – силой, если надо – ценой здоровья и жизни. Эрнест Иосифович – более спокоен. Мне слышалось дыхание Востока, когда он, похмыкивая, охлаждал своего горячего приятеля.
Я был у него дома два раза. В первый раз, когда мы привезли тело Эрнеста Иосифовича из морга и занесли в квартиру, и второй раз, когда его вдова предложила посмотреть и забрать, что захочу из книг. Удивило, как много профессиональных изданий по архитектуре. Эрнест Иосифович много лет читал и собирал книги по различным архитектурным стилям.
Он часто бывал на совещаниях различного уровня. Много времени там уходит впустую. Это всем известно. Слушая в пол-уха, Бургсдорф рисовал смешные и грустные картинки. Это что-то вроде смеси Пиросмани и Шагала, не то карикатуры, не то жанровые сценки. После смерти автора много говорили о том, что как бы издать. Тогда мы очень понравились сами себе этим желанием и собственным благородством, на том дело и кончилось.
Однажды мы шли с завода, оба очень уставшие. Он, конечно, больше – все-таки он был старше меня на сорок лет. Наверное, ему было плохо физически, но он заставил себя идти. Даже есть не хотелось, и, наверное, мы обмолвились об этом. Потому, что он вдруг начал рассказывать, как варит борщ, какое покупает мясо, как варит свеклу и т.д. Когда мы подходили к своим домам, я чувствовал сильный голод – он сработал, как аперитив, как тонизирующее средство, он вернул силы хотеть жить, пить, есть, интересоваться чем-то. Это очень характерно для Бургсдорфа: он не заставлял думать или делать, как он. Он заставлял хотеть думать и хотеть делать, но заставлял незаметно, так, что человек и не понимал сразу, что это влияние извне. Наверное, это и есть суть педагогики, наставничества.
В старом районе Барнаула есть квартал, который у старожилов назывался «Еврейский угол». Сейчас едва ли кто-то помнит это название. Несколько домов, построенные заводом Трансмаш для руководящих работников и специалистов. Во время войны большую часть грамотных специалистов инженерной службы составляли евреи. Тут их и поселили, отсюда и название квартала. Семья Бургсдорфов одно время жила в районе Еврейского угла. «Интересно, как проходила здесь жизнь вечерами, – спросил я однажды, – наверное, удобно жить рядом друг с другом, обсуждать вечерами производственные проблемы?» Я не шутил, проверял знания, почерпнутые в советских книгах. Эрнест Иосифович недоуменно посмотрел и улыбнулся: «Конечно, нет. На работе хватало забот, чтоб еще дома ими заниматься. И потом – быт. Вы представляете себе?» Тогда я плохо представлял себе военный и послевоенный быт, но получил урок: не путать романтику конструкторской работы с восторженностью. В восторженность не верю, – твердо заявлял Высоцкий, и Бургсдорф мог бы подписаться под этими словами.
В каждую свободную минуту я стал приходить в комнату Бургсдорфа. Мы сидели на седьмом этаже – «общегражданском», он – на шестом, в особой зоне с отдельным постом охраны. Чтобы попасть сюда, требовался специальный допуск. Помню, как однажды зашел к нему утром и увидел чистый лист ватмана на доске. Эрнест Иосифович грустно улыбнулся: «Они хотят восстановить экспериментальный двигатель. Сначала все разрушили, теперь восстанавливают. Нужна компоновка». «Но почему Вы?» «Решили проверить, конструктор я еще или нет». Он не возражал против черчения, он всю жизнь чертил. Его огорчали и оскорбляли проверки его квалификации людьми, стоящими ниже, по профессиональному уровню и гораздо ниже по нравственному. На эту тему он не распространялся, демонстративно сворачивая разговор. Когда в тот же день я зашел вечером, компоновка была готова. Трудно объяснить неспециалисту, что значит за восемь часов закомпоновать одноцилиндровый дизельный двигатель. Я – очень средний конструктор, для меня такая скорость была и остается недостижимой.
Примерно раз в месяц, иногда – чаще он отдавал на согласование, утверждение и переплет довольно толстые отчеты и расчеты. Мы как-то заговорили о публикациях, он сказал с обычной для себя смесью печали и иронии: «Это ведь тоже печатные труды. Если так разобраться, но как их учесть?» Печатных работ в центральных изданиях у него было достаточно, много авторских свидетельств, впоследствии – патентов. Он не гнался за публикацией, но покажите того, кому неприятно увидеть свой труд напечатанным? Его работы попадали в архив, их нельзя было выносить с завода. Гриф «ДСП» незримо присутствовал, будучи обусловлен самой тематикой разработок, объектом их применения. После многократной смены собственников завода, эти отчеты едва ли кому-нибудь нужны.
Он работал на стыках разных систем: занимался головкой цилиндра и камерой сгорания в поршне, газовоздушными трактами и системами охлаждения. По складу ума, по стилю мышления он был аналитиком. По широте знаний – энциклопедистом. С годами я стал понимать, что в нем было особенное качество, весьма редкое среди людей, то, что В.П. Эфроимсон называл нетрафаретной эрудицией. Не знаю, насколько Бургсдорф был готов, по словам того же Эфроимсона, идти на риск провала многолетней работы, насколько он был одержим своим делом. Ведь, об одержимых нам легко и приятно читать в книгах хороших писателей типа Владимира Санина. Мы-то к одержимым себя не отнесем, да и общаться с одержимыми не слишком приятно. Бургсдорф был увлеченным человеком, но его интересовало так много разного, что могло сложиться ощущение разбросанности.
Да, пожалуй, вот это было всегдашним поводом для моего удивления трансмашевскими наставниками – разносторонность их интересов. Помню, трудно шла доводка термосифонной системы охлаждения, работы у Бургсдорф было невпроворот, он вел расчеты. Мне было искренне жаль его, все утро я как-то готовил сочувственную реплику, но так и не успел: Эрнест Иосифович увлеченно рассказывал мне о гравюрах Дюрера. Он был всецело погружен в Дюрера, пока не зашел на свой секретный этаж.
Насколько при этой разноплановости он был успешен в работе? Я пристрастен к нему, но, наверное, он на самом деле был успешен, если заработал авторитет среди коллег, если с его мнением считались не только на заводе. В конце концов он получил орден «Знак почета», не занимая крайних положений в табеле о рангах: не будучи ни большим начальником, ни рядовым рабочим.
Я учился в аспирантуре и, подобно многим, не очень опытным, но увлекающимся, любил рассуждать о точности математических моделей, в частности, газодинамических процессов в двигателях. Бургсдорф, к моему огорчению, такие разговоры поддерживал очень неохотно. Я долго не мог понять причины такого равнодушия. Однажды, видимо, выведенный из себя моими наивными рассуждениями, он, вздохнув, несколькими фразами вернул меня на землю. Говорил он примерно так: «Если Вы занимаетесь проверкой адекватности мат.моделей, то не забывайте про поля допусков реальных деталей. Зачем Вам четвертый знак после запятой в результате расчета, если ширина поля рассеяния составляет для размера — три десятых (я привожу произвольные значения), для расположения поверхности – пять десятых, для шероховатости профиля – две десятых? Не делайте математику самоцелью, она – только инструмент. Если Вам нужен молоток, берите молоток, а не приделывайте черенок к микроскопу. Соизмеряйте поставленную задачу с инструментом ее решения». Но как же так? – завелся я, – ведь настанет же время, когда мы будем делать все «в ноль»! К тому моменту я успел отработать года четыре и считал себя уже полузнайкой. Самый опасный «возраст» молодых специалистов: полузнайки опасней незнаек — наивность, невежество и амбиции. Настанет такое время, — хладнокровно ответил Бургсдорф, — позовите меня. Порадуемся вместе.
При этом, хочу подчеркнуть, расчетчиком Бургсодрф был великолепным. Имел право на скептицизм.
Бургсдорф вел основную часть тепловых расчетов, но компьютер, который ему выделили, был недостаточно производительным. Эрнест Иосифович поговорил со своим сыном, и тот, за свой счет, модернизировал компьютер. Естественно для Бургсдорфа было то, что денег с предприятия он за это не взял, хотя модернизация в конце девяностых стоила недешево.
С этим компьютером связана печальная история. Перед центральной проходной Трансмаша бывало скользко. Однажды в конце дня Бургсдорф вышел из дверей проходной, поскользнулся, упал и сломал шейку бедра. На седьмом десятке лет такой перелом – очень большая проблема. После больницы Эрнест Иосифович долгое время провел на больничном. Он обратился к руководству ЦКБ с просьбой разрешить ему работать дома на служебном компьютере. Кто-нибудь привозил бы материалы и забирал готовое. К тому времени Бургсдорф «оттрубил» на заводе около сорока лет, имел орден за работы по повышению обороноспособности страны. Непосредственным начальником был его ученик. Ученик в ответ на просьбу учителя ответил примерно так: «Ну, что вы, Эрнест Иосифович? Это же – материальная ценность». Бургсдорф был убит наповал. Прошло несколько месяцев, он вышел на работу и рассказывал мне один на один эту историю с непроходящим удивлением в глазах и голосе. «Они считают меня способным украсть компьютер? – говорил он. – Да он стал дороже, после вмешательства Олега (сына Э.И. – прим. авт.). Это как – сорок лет они подозревали, что я вор и терпели меня?».
Имя Бургсдорфа хорошо знают специалисты по вибрационному горению. Кандидатскую диссертацию он защищал в форме доклада по совокупности выполненных на заводе работ. Позднее ученый совет предложил ему составить аналогичный доклад для докторской. Он отказался – зачем бессмысленная суета? Это не прибавит и не убавит. Он вообще был противником лишних движений, а что может быть более лишним в жизни, чем продвижение самого себя, самореклама. Кандидатская – еще так-сяк. Докторская – пожалуй, не стоит. На практике работы сворачиваются, а только ради красивого диплома – точно, не стоит.
Его невозможно было представить в спортивном костюме, на стадионе, на гимнастических снарядах. Худощавый, подтянутый, но при этом совершенно не спортивный. Теперь я знаю, что в жизни бывает и так.
Бодрый. Он не улыбался каждую минуту. Американский стиль с дежурной улыбкой, наверное, казался ему несколько идиотическим. Но он был открыт к общению.
Моя мама работал в технической библиотеке. В 1961 году 12 апреля он вбежал в читальный зал: «Девушки! Наш человек в космосе!» Конечно, день был сорван, но через тридцать лет она рассказывала мне об этом. Значит, радость была искренней. Не запомнились же обязательные политинформации, на которых ту же новость обыгрывали в нужном идеологическом ключе.
О конце света. В девяностые в России явственно ждали конца света. Была уверенность, что настают последние времена и дискуссии касались только момента их наступления. У Бургсдорфа не было дачного участка. Он вообще был очень далек от земледелия: книги, на природе, но с удобствами, работа – тип городского еврея-интеллектуала. На заводе коллективно сажали картошку. Это трудно себе представить, но однажды Эрнест Иосифович записался на картошку. Прошло лето, настала пора копки. Когда-нибудь история коллективных сельхозработ в России найдет своего Вергилия. Не знаю, какую площадь засадили Бургсдорф с сыном. Кругом копали такие трансмашевцы, все друг друга знали. Копали дотемна, потом заводские машины вывозили. Но как-то получилось, что Бургсдорфа не заметили, и ему пришлось ночевать в поле. С тех пор картошку он не сажал. Он рассказывал мне об этом с характерным хохотком. «Вы сердитесь на них?», – спросил я. «Зачем?», – удивился он.
Об идеологии. Он был коммунистом. К моменту нашего знакомства и до последнего дня я не слышал от него никаких оценок действий его партии. Он смешно рассказывал, как долгое время, будучи членом общества «Знание», был обязан, по распоряжению парткома, ходить по цехам и рассказывать рабочему классу о достижениях науки и техники. Рабочий класс забивал в козла, а, когда лекция заканчивалась, заканчивался и обеденный перерыв Бургсдорфа. Наконец, он обратился в партком с вопросом, как же ему совместить лекции и нормальный обед. Ну, что вы, Эрнест Иосифович!, – ответили ему, оставив право истолковывать эту реплику, как угодно.
В любом коллективе есть лидеры и конкуренты, кипят страсти. Кто-то кого-то любит и уважает, кто-то дружит с кем-то, кто-то – против кого-то. Увы, конструкторские отделы в этом отношении не исключение. Бургсдорф не пользовался всеобщей любовью. «Встанет рядом с кульманом, достанет свой платок мятый и трясет, и трясет», – неплохая вроде коллега, и конструктор неплохой, и человек незлой, но вот не видит она в нем ничего, кроме мятого клетчатого носового платка. Он не матерился – уважал себя, не мог себе позволить грязных слов. Но мог сказать в ответ на чье-нибудь суждение, если не был с ним согласен: «А это, извините, полная херня». Кому бы это понравилось? Его авторитет в области головок цилиндров, механизмов газораспределения, систем охлаждения, рабочих процессов был непререкаем. Но порой его мнение не спрашивали: он уже не имел решающего голоса, и никому не хочется услышать «А это, извините …» и т.д.
России легко дружить с Австралией. С Польшей труднее. Потому, что – соседи. Потому, что есть общая история. Легко дружить сотрудникам, не связанным между собой тесно по работе. Труднее поддерживать отношения между, например, бюро головок и газораспределения и бюро картеров: соседствуют детали в двигателе, передают и создают друг другу проблемы. И ошибки конструкторов, и брак цеховой падают, как кислотный дождь на рядом лежащие участки поля – всем плохо. Бургсдорфа не любили не только за личные качества, но и как начальника бюро головок. Он был уже снят, работал ведущим конструктором – не по какой-то своей вине, а только из-за очередных реформ. А нелюбовь оставалась, как фантомная боль после ампутации. В этом не последняя причина отдельной комнаты на секретном этаже.
При этом за все время общения с ним я не слышал критического отзыва о ком-нибудь из коллег. Заявляю это ответственно и готов повторить: ни о ком из своих коллег по ЦКБ Эрнест Иосифович Бургсдорф в моем присутствии плохо не отзывался.
Конечно, мы не были дружны – слишком велика разница в возрасте и, главное, я никогда не мог воспринять его, как друга. Это был другой масштаб личности. С ним мог бы дружить Роберто ди Бартини, Побиск Кузнецов, Николай Козырев, Александр Микулин – кто-то равный или близкий по уровню. Я всегда смотрел снизу вверх.
Не знаю, что превалировало в нем: природная жизнерадостность или твердая воля. Он тяжело и долго болел. На операцию нужны были такие деньги, которые ведущий конструктор мог заработать лет за тридцать. Он знал, что будущего для него нет, и все-таки ни разу, ни словом, ни взглядом не показал, как ему тоскливо, не дал повода и возможности пожалеть себя.
Я был у него в больнице 9 февраля, 16 он умер. Бургсдорф не изменил себе до конца – ни вздохов, ни проклятий нынешним временам, ни сожалений.
Часть книг в нашей библиотеке перешли ко мне от Бургсдорфа, порой мне кажется, что от них пахнет его запахом. А, когда я открываю их, я слышу его голос. Значит, он жив. Живы все, с кем нам повезло встретиться, живы до тех пор, пока мы помним о них».
Источник: литературный альманах «В сердце всегда Политех!», посвященный 80-летнему юбилею Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.